typography
Ещё три фактических ошибки идеологов введения всеобщей «адвокатской монополии»
на судебное представительство
на судебное представительство
Из конспектов il topo di campagna
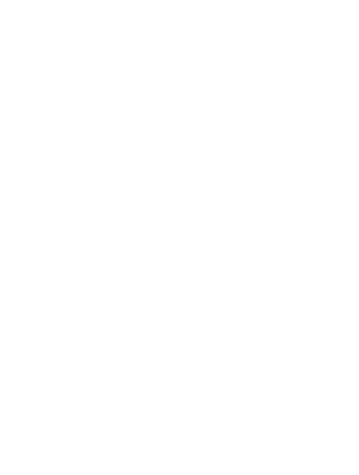
Роман Тараданов
Юрист, г. Челябинск
Предисловие с пояснениями
По ряду причин в прошлом году я отошел от активного участия на этом портале [Закон.ру], но решил ненадолго вернуться из-за вновь всплывшей в публичном поле инициативы представителей Федеральной палаты адвокатов и Министерства юстиции о введении пресловутой адвокатской монополии.
Приведенный ниже текст написан в дополнение к тезисам Екатерины Гуленковой в её заметке от 06.07.2025, а также впоследствии присоединившихся к обсуждению коллег, и представляет собой краткое изложение части информации, накопленной мной за те 10 лет, что я занимаюсь изучением данного вопроса.
По ряду причин в прошлом году я отошел от активного участия на этом портале [Закон.ру], но решил ненадолго вернуться из-за вновь всплывшей в публичном поле инициативы представителей Федеральной палаты адвокатов и Министерства юстиции о введении пресловутой адвокатской монополии.
Приведенный ниже текст написан в дополнение к тезисам Екатерины Гуленковой в её заметке от 06.07.2025, а также впоследствии присоединившихся к обсуждению коллег, и представляет собой краткое изложение части информации, накопленной мной за те 10 лет, что я занимаюсь изучением данного вопроса.
Прежде всего, обращаю внимание читателей, что в настоящем тексте, если прямо не указано иное, под «адвокатской монополией» понимается только и исключительно та модель «или вступай в нашу палату на наших условиях, или пошёл вон из суда и профессии», которую уже четвертый, на моей памяти, раз предлагает ФПА как основу переустройства рынка услуг по судебному представительству. Конечно, в разное время для этого явления придумывали и другие названия (один «адвокатский колхоз» по определению Г.Б. Мирзоева чего стоит). Но наиболее уместным мне представляется именно этот термин, пришедший к нам из западных правопорядков (да, Юлий Валерьевич, его придумали отнюдь не отечественные юристы-частники, и чтобы убедиться в этом – достаточно просто ввести фразу Lawyers’ Monopoly в поисковую строку Гугле, чтобы получить десятки ссылок на статьи и книги, вроде Rethinking the Lawyers' Monopoly; Piercing the Lawyers' Monopoly; Judges and the Deregulation of the Lawyer's Monopoly; Break Up Lawyers' Monopoly on the Law, et cetera).
Я знаю много хороших адвокатов, и, увы, ещё больше катастрофических дилетантов от профессии (что «с корочками», что без), а потому, при иных условиях, возможно, сам бы приветствовал реформу судебного представительства как таковую, чтобы среди коллег было как можно больше первых и как можно меньше вторых. Но, как говорил известный златоуст и мастер спонтанного красноречия В.С. Черномырдин, «у нас какую партию ни возьмемся строить – все равно КПСС получается». А поскольку я идейный сторонник пресловутого плюрализма, такую модель я принять не могу, независимо от того, насколько легко или сложно было бы вписаться в подобную модель лично мне.
Также, в этом тексте я не буду повторять лишний раз все передергивания, натяжки и прочие манипуляции с текущими отечественными реалиями в части количества представителей-мошенников, представителей-неадекватов, ценообразования и прочих существенных вопросов, к которым прибегают инициаторы реформы – о них уже было и ещё будет сказано много правильного и без меня.
Я же остановлюсь лишь на тех аспектах, которые, на мой взгляд, сравнительно плохо известны широкой юридической публике, но при этом регулярно упоминаются в дискуссиях со стороны представителей ФПА и потому требуют адекватного ответа.
И в завершение преамбулы особо отмечу, что мне очень хотелось употребить в названии более резкий термин – «три мифа», «три выдумки», наконец просто «три лжи», ибо по моему субъективному мнению они все подходят по смыслу куда больше. Но дабы придерживаться требуемой для серьёзного обсуждения тональности, пусть будет просто «три ошибки», без предположений о причинах их совершения.
Вот теперь, поехали.
Я знаю много хороших адвокатов, и, увы, ещё больше катастрофических дилетантов от профессии (что «с корочками», что без), а потому, при иных условиях, возможно, сам бы приветствовал реформу судебного представительства как таковую, чтобы среди коллег было как можно больше первых и как можно меньше вторых. Но, как говорил известный златоуст и мастер спонтанного красноречия В.С. Черномырдин, «у нас какую партию ни возьмемся строить – все равно КПСС получается». А поскольку я идейный сторонник пресловутого плюрализма, такую модель я принять не могу, независимо от того, насколько легко или сложно было бы вписаться в подобную модель лично мне.
Также, в этом тексте я не буду повторять лишний раз все передергивания, натяжки и прочие манипуляции с текущими отечественными реалиями в части количества представителей-мошенников, представителей-неадекватов, ценообразования и прочих существенных вопросов, к которым прибегают инициаторы реформы – о них уже было и ещё будет сказано много правильного и без меня.
Я же остановлюсь лишь на тех аспектах, которые, на мой взгляд, сравнительно плохо известны широкой юридической публике, но при этом регулярно упоминаются в дискуссиях со стороны представителей ФПА и потому требуют адекватного ответа.
И в завершение преамбулы особо отмечу, что мне очень хотелось употребить в названии более резкий термин – «три мифа», «три выдумки», наконец просто «три лжи», ибо по моему субъективному мнению они все подходят по смыслу куда больше. Но дабы придерживаться требуемой для серьёзного обсуждения тональности, пусть будет просто «три ошибки», без предположений о причинах их совершения.
Вот теперь, поехали.
Ошибка № 1
«Адвокатская монополия – это исторически естественная для России вещь, которая лишь в хаосе 1990-х ненадолго пропадала из правового поля».
Первый и, вероятно, самый популярный тезис апологетов адвокатской монополии – это тезис о том, что адвокатская монополия в России существовала практически столько же, сколько существуют сами адвокаты, а текущее положение вещей с наличием альтернативных частных представителей – это некий случайный исторический выверт, родившийся из регулятивного беспорядка 1990-х годов.
Пожалуй, наиболее известным выступлением с данным тезисом является вышедшая в «Адвокатской газете» в 2010-м году «программная» статья-интервью доктора юридических наук, профессора МГЮА, в ту пору вице-президента, впоследствии президента, а ныне советника ФПА и Заслуженного юриста Российской Федерации Юрия Сергеевича Пилипенко.
Статья с очень ярким и предельно емким названием «Бунт амбарных мышей». Полным текстом оной вы можете насладиться вот здесь https://www.advgazeta.ru/arhivnye-zapisi/bunt-ambarnykh-myshey/ и от себя замечу, что со стилистической точки зрения в ней прекрасно буквально каждое слово. Это то, что в журналистике принято называть памфлетом.
Но здесь я приведу из неё лишь ключевую выдержку, отчетливо иллюстрирующую обсуждаемый тезис:
"Впрочем, о рынке тоже нужно сказать. Некоторые из коллег-неадвокатов полагают, что они всерьез контролируют эту сферу. Мне это напоминает бунт амбарных мышей. Будто бы хозяин на месяц исчез из дома, возвращается – а там мыши, которые при попытке изгнать их из дома начинают пищать о рейдерских захватах и требуют у хозяина уважать их права".
Полагаю, едва ли кто-то будет спорить, что смысл этих слов даже вне контекста однозначен: «мы законно владели этим рынком всегда, а вы просто присвоили наше, пока мы ненадолго потеряли контроль».
Я не собираюсь обсуждать этическую сторону подобного подхода (и всех, кто будет комментировать эту заметку, тоже настоятельно прошу воздержаться от её обсуждения). Не о ней сейчас речь, правда.
Я хочу остановиться лишь на подразумеваемом как аксиома тезисе о том, что этот контроль над «представительским рынком» в прошлом длительное время был предоставлен адвокатам на законодательном уровне.
Для начала дадим вновь слово самому Юрию Сергеевичу:
Адвокатура возникла около 150 лет назад, из них 80 мы были при советской власти. У нас крепостное право существовало практически постоянно. Очень малый исторический период в стране существовали свободные рыночные отношения с присущим им особым отношением к частной собственности. Поэтому сфера частного права всегда была несколько «в загоне», как и правоприменение. Величайшие юридические умы предпочитали специализироваться на публичном праве – это давало возможности карьерного роста, популярности. Тем не менее адвокатура дала юридической науке и практике очень серьезные имена: Карабчевский, Урусов, Спасович, Муромцев. А наши современники – Резник, Падва, Ария…
Не хотелось бы думать, что Юрий Сергеевич был не в курсе отмены крепостного права аккурат за 149 лет до выхода статьи (в 1861-м году) и, тем более, что он приравнивает к крепостному праву рабоче-крестьянскую советскую власть (ибо тут уже посягательство на нынешние конституционные основы можно при желании найти), но это и неважно. Важно лишь то, что здесь мы имеем четкое обозначение «откуда есть пошла русская адвокатура» - с 1860-х годов, а точнее, видимо, с известной всем со школьной скамьи Судебной реформы Александра II.
И будучи объективным, нельзя не признать, что да, среди прочего та реформа предполагала прообраз адвокатской монополии – создание Советов присяжных поверенных при каждом судебном округе империи, только лишь члены которых и могли быть представителями в судах соответствующего округа (хотя и тогда, насколько я понимаю, в коммерческих судах по «торговым делам» для представительства требовалось получить дополнительный статус присяжного стряпчего, который был введён ещё в 1832-м). Причем вступление в Совет в качестве нового поверенного допускалось лишь с согласия Совета или на основании решения Судебной палаты.
Но вот тут-то и началось интересное.
В адвокатских изданиях из работы в работу кочует утверждение о том, что царская власть систематически «втыкала палки в колеса» адвокатскому самоуправлению за его оппозиционность и неподконтрольность. Например, Смирнов С.Н. в статье «Этапы становления адвокатуры в России» (журнал "Адвокатская практика". 2024. N 3. С. 52 – 58, есть в К+) пишет: «Царское правительство сдерживало самоуправление адвокатуры. В течение 38 лет советы присяжных поверенных существовали лишь в двух столицах и Харькове. В остальных местностях присяжная адвокатура подчинялась власти окружных судов». Адвокат Алексей Барановский в статье 2018 года «История становления российской адвокатуры с 1864 по 1917 г.» во всё той же «Адвокатской газете» (см. тут https://www.advgazeta.ru/mneniya/istoriya-stanovleniya-rossiyskoy-advokatury-s-1864-po-1917-g/) писал, что «Образование адвокатских Советов в иных губерниях искусственно тормозилось и блокировалось государством административными методами (сенатский запрет 1874 г.), так как адвокаты были слишком неподконтрольными и зачастую оппозиционно настроенными по отношению к самодержавному режиму» (то есть, в современной терминологии, они были для государства «нерукопожатны»).
С другой стороны, если посмотреть неадвокатские издания, то можно встретить упоминания, что сам «царский режим» был недоволен именно нежеланием адвокатов создавать необходимые для выполнения реформы советы, парализуя тем, как сказали бы в наши дни, «реализацию национального проекта по повышению доступности правосудия» (см., например, https://cyberleninka.ru/article/n/ustroystvo-prisyazhnoy-advokatury-dorevolyutsionnoy-rossii/viewer). И учитывая, что ст. 367 Учреждения Судебных Установлений (см. тут https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/ucherezhdenie_sudebnyh_ustanovleniy_1864), среди прочего, именно на эти Советы возлагала оказание бесплатной юридической помощи малоимущим, а малоимущих после пресловутого «освобождения крестьян без земли» было много - нельзя сказать, что для такого недовольства «режима» совсем не было оснований.
Чего там было больше на самом деле – судить не берусь. Но это, опять же, неважно применительно к предмету настоящего исследования.
Важно то, что уже в 1874-м году «царский режим» отказался от создания этих советов и издал «Высочайше утвержденные Правила о лицах, имеющих право быть поверенными по судебным делам» (см. тут https://bigenc.ru/b/vysochaishe-utverzhdennye-pra-6facc4), в которых адвокатская и даже отчасти просто «дипломная» монополия была сведена на ноль через введение частных поверенных. Судите сами:
Прежде всего, эти Правила не содержали указаний на необходимость сдачи какого-либо унифицированного экзамена либо наличия стажа или образования (больше того, частными поверенными разрешили становиться помощникам присяжных поверенных).
Выдача свидетельств на право «ходатайствовать по чужим делам» осуществлялась судами, которые проверяли лишь, имеет ли соискатель общее образование, является ли он дееспособным и не поражен ли он в правах. Больше того, в п. 18 Правил было установлено право быть представителем в суде вообще без такого свидетельства, хотя и не более, чем по 3 делам в год.
Проверка же профессиональной квалификации, согласно п. 7 Правил, осуществлялась по желанию выдающего свидетельство суда, но только при отсутствии диплома или ранее полученного в ином суде аналогичного свидетельства. При этом п. 15 Правил предусматривал возможность обжалования отказа в выдаче свидетельства.
Последующий контроль за «моральным обликом» частных поверенных так же осуществлялся судами и отдельно тогдашним Минюстом (п. 16 Правил).
Основным же требованием к частным поверенным было внесение ежегодных платежей в земский и имперский бюджеты за право представительствовать в земских и коронных судах, в размере 40 и 75 рублей, соответственно (п. 10 Правил).
Поскольку это уже «послекрымские», но ещё «до-Виттевские» рубли (то есть, уже значительно отвязанные от Канкриновского серебряного стандарта, но пока не приведённые к золотому), определить их точный эквивалент в современных рублях проблематично. Однако, полагаю, будет более-менее корректно провести аналогию «по Достоевскому». А именно, в 2015 году один исследователь через сопоставление средних зарплат установил, что «срубленные» во всех смыслах в 1865 году юристом-недоучкой Раскольниковым 314 рублей были эквивалентны примерно 320 000 современных рублей. С поправкой на набежавшие за минувшие 10 лет примерно 100% инфляции это будет, соответственно 640 000 рублей или примерно 2000 нынешних рублей на 1 имперский.
Соответственно, размеры ежегодных сборов составляли примерно 80 000 и 150 000 рублей, соответственно. Весьма чувствительные суммы, но всё же не непосильные.
Таким образом, в дореволюционной России попытка введения адвокатской монополии на законодательном уровне имела место, но в тогдашних условиях закончилась неудачно.
Что же касается советской истории, то здесь, безусловно, нельзя не признать, что на скромном рынке «хозяйственно-бытовых» гражданских споров нечто, напоминающее адвокатскую монополию, по факту и правда существовало. Однако существовало оно сугубо в силу специфики самой социалистической экономики, в которой возможности трудоустройства в сфере «практической юриспруденции» исчерпывались государственными предприятиями и теми же адвокатскими образованиями.
Но вот если мы обратимся непосредственно к советскому процессуальному законодательству, то увидим следующее:
- Согласно ст. 15 ГПК РСФСР от 10.07.1923 (см. тут https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/10_grazhd_kodeks) представитель мог быть «добровольно выбранным стороной», а согласно ст. 16 наряду с «членами коллегии защитников» представителями могли быть «лица, допущенные судом, разбирающим дело, к представительству по данному делу»;
- И точно такая же норма содержалась в ст. 45 ГПК РСФСР от 01.10.1964 (см. тут https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/16_grazhd_proc_kodeks).
Таким образом, решение о допуске в качестве представителя в советском гражданском процессе не было связано с наличием статуса адвоката и зависело лишь от согласия суда.
Едва ли подобную ситуацию можно назвать «законодательно установленной адвокатской монополией».
Однако это всё дела давно минувших дней и, будем честны, иных государств и иных социально-экономических укладов.
А вот что касается актуального для нас прошлого, то, коль скоро мы рассуждаем о «русском ориджинализме», здесь нужно остановиться на одном событии, имевшем место в 1997 году - Постановлении Конституционного Суда РФ от 28.01.1997 N 2-П "По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова"
В подробностях каждый может изучить это Постановление самостоятельно, я же просто передам суть. В том разбирательстве решалась (и висела на волоске) судьба той единственной монополии, которая есть у адвокатского сообщества сейчас – монополии на услуги защиты в уголовном судопроизводстве.
К счастью или к сожалению, но тогда она всё же устояла с минимальным перевесом голосов 5 против 4. Однако все 4 судьи, голосовавшие за окончательное сокрушение монополии (ныне, к сожалению, покинувшие нас В.О. Лучин, Э.М. Аметистов, В.И. Олейник, а также, к счастью, отметивший в минувшем году 90-летний юбилей Н.Т. Ведерников), оставили особые мнения, каждое из которых, по моему личному мнению, является просто образцом конституционно-правовой и вообще юридической риторики, заслуживающим прочтения независимо от отношения к обсуждаемой проблеме.
И выдержки из каждого я считаю нужным процитировать:
Пожалуй, наиболее известным выступлением с данным тезисом является вышедшая в «Адвокатской газете» в 2010-м году «программная» статья-интервью доктора юридических наук, профессора МГЮА, в ту пору вице-президента, впоследствии президента, а ныне советника ФПА и Заслуженного юриста Российской Федерации Юрия Сергеевича Пилипенко.
Статья с очень ярким и предельно емким названием «Бунт амбарных мышей». Полным текстом оной вы можете насладиться вот здесь https://www.advgazeta.ru/arhivnye-zapisi/bunt-ambarnykh-myshey/ и от себя замечу, что со стилистической точки зрения в ней прекрасно буквально каждое слово. Это то, что в журналистике принято называть памфлетом.
Но здесь я приведу из неё лишь ключевую выдержку, отчетливо иллюстрирующую обсуждаемый тезис:
"Впрочем, о рынке тоже нужно сказать. Некоторые из коллег-неадвокатов полагают, что они всерьез контролируют эту сферу. Мне это напоминает бунт амбарных мышей. Будто бы хозяин на месяц исчез из дома, возвращается – а там мыши, которые при попытке изгнать их из дома начинают пищать о рейдерских захватах и требуют у хозяина уважать их права".
Полагаю, едва ли кто-то будет спорить, что смысл этих слов даже вне контекста однозначен: «мы законно владели этим рынком всегда, а вы просто присвоили наше, пока мы ненадолго потеряли контроль».
Я не собираюсь обсуждать этическую сторону подобного подхода (и всех, кто будет комментировать эту заметку, тоже настоятельно прошу воздержаться от её обсуждения). Не о ней сейчас речь, правда.
Я хочу остановиться лишь на подразумеваемом как аксиома тезисе о том, что этот контроль над «представительским рынком» в прошлом длительное время был предоставлен адвокатам на законодательном уровне.
Для начала дадим вновь слово самому Юрию Сергеевичу:
Адвокатура возникла около 150 лет назад, из них 80 мы были при советской власти. У нас крепостное право существовало практически постоянно. Очень малый исторический период в стране существовали свободные рыночные отношения с присущим им особым отношением к частной собственности. Поэтому сфера частного права всегда была несколько «в загоне», как и правоприменение. Величайшие юридические умы предпочитали специализироваться на публичном праве – это давало возможности карьерного роста, популярности. Тем не менее адвокатура дала юридической науке и практике очень серьезные имена: Карабчевский, Урусов, Спасович, Муромцев. А наши современники – Резник, Падва, Ария…
Не хотелось бы думать, что Юрий Сергеевич был не в курсе отмены крепостного права аккурат за 149 лет до выхода статьи (в 1861-м году) и, тем более, что он приравнивает к крепостному праву рабоче-крестьянскую советскую власть (ибо тут уже посягательство на нынешние конституционные основы можно при желании найти), но это и неважно. Важно лишь то, что здесь мы имеем четкое обозначение «откуда есть пошла русская адвокатура» - с 1860-х годов, а точнее, видимо, с известной всем со школьной скамьи Судебной реформы Александра II.
И будучи объективным, нельзя не признать, что да, среди прочего та реформа предполагала прообраз адвокатской монополии – создание Советов присяжных поверенных при каждом судебном округе империи, только лишь члены которых и могли быть представителями в судах соответствующего округа (хотя и тогда, насколько я понимаю, в коммерческих судах по «торговым делам» для представительства требовалось получить дополнительный статус присяжного стряпчего, который был введён ещё в 1832-м). Причем вступление в Совет в качестве нового поверенного допускалось лишь с согласия Совета или на основании решения Судебной палаты.
Но вот тут-то и началось интересное.
В адвокатских изданиях из работы в работу кочует утверждение о том, что царская власть систематически «втыкала палки в колеса» адвокатскому самоуправлению за его оппозиционность и неподконтрольность. Например, Смирнов С.Н. в статье «Этапы становления адвокатуры в России» (журнал "Адвокатская практика". 2024. N 3. С. 52 – 58, есть в К+) пишет: «Царское правительство сдерживало самоуправление адвокатуры. В течение 38 лет советы присяжных поверенных существовали лишь в двух столицах и Харькове. В остальных местностях присяжная адвокатура подчинялась власти окружных судов». Адвокат Алексей Барановский в статье 2018 года «История становления российской адвокатуры с 1864 по 1917 г.» во всё той же «Адвокатской газете» (см. тут https://www.advgazeta.ru/mneniya/istoriya-stanovleniya-rossiyskoy-advokatury-s-1864-po-1917-g/) писал, что «Образование адвокатских Советов в иных губерниях искусственно тормозилось и блокировалось государством административными методами (сенатский запрет 1874 г.), так как адвокаты были слишком неподконтрольными и зачастую оппозиционно настроенными по отношению к самодержавному режиму» (то есть, в современной терминологии, они были для государства «нерукопожатны»).
С другой стороны, если посмотреть неадвокатские издания, то можно встретить упоминания, что сам «царский режим» был недоволен именно нежеланием адвокатов создавать необходимые для выполнения реформы советы, парализуя тем, как сказали бы в наши дни, «реализацию национального проекта по повышению доступности правосудия» (см., например, https://cyberleninka.ru/article/n/ustroystvo-prisyazhnoy-advokatury-dorevolyutsionnoy-rossii/viewer). И учитывая, что ст. 367 Учреждения Судебных Установлений (см. тут https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/ucherezhdenie_sudebnyh_ustanovleniy_1864), среди прочего, именно на эти Советы возлагала оказание бесплатной юридической помощи малоимущим, а малоимущих после пресловутого «освобождения крестьян без земли» было много - нельзя сказать, что для такого недовольства «режима» совсем не было оснований.
Чего там было больше на самом деле – судить не берусь. Но это, опять же, неважно применительно к предмету настоящего исследования.
Важно то, что уже в 1874-м году «царский режим» отказался от создания этих советов и издал «Высочайше утвержденные Правила о лицах, имеющих право быть поверенными по судебным делам» (см. тут https://bigenc.ru/b/vysochaishe-utverzhdennye-pra-6facc4), в которых адвокатская и даже отчасти просто «дипломная» монополия была сведена на ноль через введение частных поверенных. Судите сами:
Прежде всего, эти Правила не содержали указаний на необходимость сдачи какого-либо унифицированного экзамена либо наличия стажа или образования (больше того, частными поверенными разрешили становиться помощникам присяжных поверенных).
Выдача свидетельств на право «ходатайствовать по чужим делам» осуществлялась судами, которые проверяли лишь, имеет ли соискатель общее образование, является ли он дееспособным и не поражен ли он в правах. Больше того, в п. 18 Правил было установлено право быть представителем в суде вообще без такого свидетельства, хотя и не более, чем по 3 делам в год.
Проверка же профессиональной квалификации, согласно п. 7 Правил, осуществлялась по желанию выдающего свидетельство суда, но только при отсутствии диплома или ранее полученного в ином суде аналогичного свидетельства. При этом п. 15 Правил предусматривал возможность обжалования отказа в выдаче свидетельства.
Последующий контроль за «моральным обликом» частных поверенных так же осуществлялся судами и отдельно тогдашним Минюстом (п. 16 Правил).
Основным же требованием к частным поверенным было внесение ежегодных платежей в земский и имперский бюджеты за право представительствовать в земских и коронных судах, в размере 40 и 75 рублей, соответственно (п. 10 Правил).
Поскольку это уже «послекрымские», но ещё «до-Виттевские» рубли (то есть, уже значительно отвязанные от Канкриновского серебряного стандарта, но пока не приведённые к золотому), определить их точный эквивалент в современных рублях проблематично. Однако, полагаю, будет более-менее корректно провести аналогию «по Достоевскому». А именно, в 2015 году один исследователь через сопоставление средних зарплат установил, что «срубленные» во всех смыслах в 1865 году юристом-недоучкой Раскольниковым 314 рублей были эквивалентны примерно 320 000 современных рублей. С поправкой на набежавшие за минувшие 10 лет примерно 100% инфляции это будет, соответственно 640 000 рублей или примерно 2000 нынешних рублей на 1 имперский.
Соответственно, размеры ежегодных сборов составляли примерно 80 000 и 150 000 рублей, соответственно. Весьма чувствительные суммы, но всё же не непосильные.
Таким образом, в дореволюционной России попытка введения адвокатской монополии на законодательном уровне имела место, но в тогдашних условиях закончилась неудачно.
Что же касается советской истории, то здесь, безусловно, нельзя не признать, что на скромном рынке «хозяйственно-бытовых» гражданских споров нечто, напоминающее адвокатскую монополию, по факту и правда существовало. Однако существовало оно сугубо в силу специфики самой социалистической экономики, в которой возможности трудоустройства в сфере «практической юриспруденции» исчерпывались государственными предприятиями и теми же адвокатскими образованиями.
Но вот если мы обратимся непосредственно к советскому процессуальному законодательству, то увидим следующее:
- Согласно ст. 15 ГПК РСФСР от 10.07.1923 (см. тут https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/10_grazhd_kodeks) представитель мог быть «добровольно выбранным стороной», а согласно ст. 16 наряду с «членами коллегии защитников» представителями могли быть «лица, допущенные судом, разбирающим дело, к представительству по данному делу»;
- И точно такая же норма содержалась в ст. 45 ГПК РСФСР от 01.10.1964 (см. тут https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/16_grazhd_proc_kodeks).
Таким образом, решение о допуске в качестве представителя в советском гражданском процессе не было связано с наличием статуса адвоката и зависело лишь от согласия суда.
Едва ли подобную ситуацию можно назвать «законодательно установленной адвокатской монополией».
Однако это всё дела давно минувших дней и, будем честны, иных государств и иных социально-экономических укладов.
А вот что касается актуального для нас прошлого, то, коль скоро мы рассуждаем о «русском ориджинализме», здесь нужно остановиться на одном событии, имевшем место в 1997 году - Постановлении Конституционного Суда РФ от 28.01.1997 N 2-П "По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова"
В подробностях каждый может изучить это Постановление самостоятельно, я же просто передам суть. В том разбирательстве решалась (и висела на волоске) судьба той единственной монополии, которая есть у адвокатского сообщества сейчас – монополии на услуги защиты в уголовном судопроизводстве.
К счастью или к сожалению, но тогда она всё же устояла с минимальным перевесом голосов 5 против 4. Однако все 4 судьи, голосовавшие за окончательное сокрушение монополии (ныне, к сожалению, покинувшие нас В.О. Лучин, Э.М. Аметистов, В.И. Олейник, а также, к счастью, отметивший в минувшем году 90-летний юбилей Н.Т. Ведерников), оставили особые мнения, каждое из которых, по моему личному мнению, является просто образцом конституционно-правовой и вообще юридической риторики, заслуживающим прочтения независимо от отношения к обсуждаемой проблеме.
И выдержки из каждого я считаю нужным процитировать:
Виктор Осипович Лучин:
«Таким образом, смысл указания в части 2 статьи 48 Конституции Российской Федерации на право каждого задержанного, заключенного под стражу и обвиняемого пользоваться помощью адвоката (защитника) состоит не в том, чтобы ограничить обвиняемого в праве обратиться за помощью к другим лицам, а в том, чтобы обязать соответствующие правоприменительные органы обеспечить обвиняемому помощь именно адвоката даже в том случае, когда сам он по тем или иным причинам лишен возможности пригласить выбранного им защитника.
Оценивая с учетом изложенного часть четвертую статьи 47 УПК РСФСР, можно констатировать, что сама по себе эта норма не противоречит Конституции Российской Федерации, поскольку по буквальному своему смыслу она не ограничивает права обвиняемого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, и пользоваться помощью адвоката (защитника).
Однако правоприменительной практикой положения этой нормы трактуются как фактически устанавливающие запрет на участие в качестве защитников каких бы то ни было категорий лиц, кроме тех, которые прямо в ней названы. Именно такой смысл был придан части четвертой статьи 47 УПК РСФСР в тех правоприменительных решениях, которые послужили поводом для обращения в Конституционный Суд Российской Федерации граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса, С.В. Абрамова. При таком истолковании этой нормы обвиняемому не гарантируется свободный выбор защитника при условии оказания ему квалифицированной юридической помощи. Тем самым ее положения становятся препятствием для реализации гражданами своих прав, предусмотренных статьями 45 (часть 2) и 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации».
Оценивая с учетом изложенного часть четвертую статьи 47 УПК РСФСР, можно констатировать, что сама по себе эта норма не противоречит Конституции Российской Федерации, поскольку по буквальному своему смыслу она не ограничивает права обвиняемого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, и пользоваться помощью адвоката (защитника).
Однако правоприменительной практикой положения этой нормы трактуются как фактически устанавливающие запрет на участие в качестве защитников каких бы то ни было категорий лиц, кроме тех, которые прямо в ней названы. Именно такой смысл был придан части четвертой статьи 47 УПК РСФСР в тех правоприменительных решениях, которые послужили поводом для обращения в Конституционный Суд Российской Федерации граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса, С.В. Абрамова. При таком истолковании этой нормы обвиняемому не гарантируется свободный выбор защитника при условии оказания ему квалифицированной юридической помощи. Тем самым ее положения становятся препятствием для реализации гражданами своих прав, предусмотренных статьями 45 (часть 2) и 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации».
Эрнест Михайлович Аметистов:
«Подлинные намерения авторов Конституции в данном случае можно уяснить из материалов Конституционного Совещания 1993 года, на котором разрабатывался и обсуждался проект ныне действующей Конституции Российской Федерации.
В ходе Конституционного Совещания неоднократно предпринимались попытки внести в проект нынешней статьи 48 поправки, имевшие целью сузить круг лиц, оказывающих юридическую помощь, только членами коллегии адвокатов. Все эти поправки были отклонены в связи с тем, что их принятие, как указывалось на Совещании, привело бы к созданию "закрытых профсоюзов" для адвокатов, лишающих практики тех, кто не вступил в коллегию, создающих "монопольное право" адвокатов оказывать юридическую помощь. При этом участники Конституционного Совещания подчеркивали, что допуск на стадии предварительного следствия только представителей коллегии адвокатов существенно ущемляет права граждан, и что, напротив, представленный проект обсуждаемой статьи (позволявший допускать на этой стадии участие других лиц), отвечает принципу свободного выбора защитника (см. Конституционное Совещание. Стенограммы, материал, документы. 29 апреля - 10 ноября 1993 г." Т. 4., стр. 16 - 17, 110 - 116; Т. 19, стр. 56). "Главное, - говорил один из представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации на Совещании, - то, чтобы у человека при осуществлении его права на защиту был выбор независимого защитника по его убеждению. Не всегда существующие адвокатские структуры независимы от органов власти и поэтому предоставление альтернативы для человека: обратиться в коллегию ли адвокатов, в "Союз юристов" или к частному юристу, защитнику, это реализация в полной мере его права на осуществление защиты" (там же, Т. 4, стр. 115).
<…>
Все эти ограничения конституционных прав в свою очередь не соответствуют и условиям части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, согласно которым права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Допуск частнопрактикующих юристов к защите подозреваемых и обвиняемых не посягает ни на одну из этих ценностей. С учетом позиции законодателя, допускающего к защите лиц, от которых вообще не требуется подтверждения их квалификации, и даже позволяющего обвиняемым отказываться от защиты и защищать себя самостоятельно, следует признать также, что допуск к защите частнопрактикующих юристов, работающих по лицензии Министерства юстиции Российской Федерации, тем более не противоречит основам судопроизводства, закрепленным в части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации».
В ходе Конституционного Совещания неоднократно предпринимались попытки внести в проект нынешней статьи 48 поправки, имевшие целью сузить круг лиц, оказывающих юридическую помощь, только членами коллегии адвокатов. Все эти поправки были отклонены в связи с тем, что их принятие, как указывалось на Совещании, привело бы к созданию "закрытых профсоюзов" для адвокатов, лишающих практики тех, кто не вступил в коллегию, создающих "монопольное право" адвокатов оказывать юридическую помощь. При этом участники Конституционного Совещания подчеркивали, что допуск на стадии предварительного следствия только представителей коллегии адвокатов существенно ущемляет права граждан, и что, напротив, представленный проект обсуждаемой статьи (позволявший допускать на этой стадии участие других лиц), отвечает принципу свободного выбора защитника (см. Конституционное Совещание. Стенограммы, материал, документы. 29 апреля - 10 ноября 1993 г." Т. 4., стр. 16 - 17, 110 - 116; Т. 19, стр. 56). "Главное, - говорил один из представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации на Совещании, - то, чтобы у человека при осуществлении его права на защиту был выбор независимого защитника по его убеждению. Не всегда существующие адвокатские структуры независимы от органов власти и поэтому предоставление альтернативы для человека: обратиться в коллегию ли адвокатов, в "Союз юристов" или к частному юристу, защитнику, это реализация в полной мере его права на осуществление защиты" (там же, Т. 4, стр. 115).
<…>
Все эти ограничения конституционных прав в свою очередь не соответствуют и условиям части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, согласно которым права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Допуск частнопрактикующих юристов к защите подозреваемых и обвиняемых не посягает ни на одну из этих ценностей. С учетом позиции законодателя, допускающего к защите лиц, от которых вообще не требуется подтверждения их квалификации, и даже позволяющего обвиняемым отказываться от защиты и защищать себя самостоятельно, следует признать также, что допуск к защите частнопрактикующих юристов, работающих по лицензии Министерства юстиции Российской Федерации, тем более не противоречит основам судопроизводства, закрепленным в части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации».
Владимир Иванович Олейник:
«В силу статей 2, 18, 45 (часть 2) и 48 Конституции Российской Федерации, а также в соответствии с подпунктом "d" пункта 3 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, имеет право защищать свои права и свободы всеми избранными им способами, не запрещенными законом, как лично, так и посредством выбранного им защитника. Такое право, как следует из статьи 56 (часть 3) Конституции Российской Федерации, ни при каких обстоятельствах не подлежит ограничению.
Как явствует из утвержденных резолюцией Восьмого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Основных принципов, касающихся роли юристов, это право предполагает возможность обратиться к любому юристу (в том числе к лицу, не имеющему такого официального статуса, но выполняющему функции юриста) за помощью для защиты и отстаивания своих прав и защиты на всех стадиях уголовного судопроизводства.
При этом исключительное право выбора защитника принадлежит самому субъекту защиты, а не следователю, прокурору или какому-либо другому лицу. Отказ органов и должностных лиц в признании обоснованности сделанного гражданином выбора защитника и в допуске выбранного защитника к участию в деле может быть обжалован в суд на основании статьи 46 Конституции Российской Федерации.
Государство, гарантируя каждому обвиняемому и подозреваемому право на получение квалифицированной юридической помощи адвоката (статья 48 Конституции Российской Федерации), тем самым берет на себя обязательство предоставить ему по его просьбе именно такую помощь, в том числе в случаях, когда сам обвиняемый по тем или иным причинам лишен возможности самостоятельно пригласить избранного им защитника. В силу статьи 55 (часть 1) Конституции Российской Федерации эти конституционные положения, однако, не должны толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, в частности права привлечь для осуществления своей защиты наряду с защитником - адвокатом других специалистов в самых различных областях знаний, включая правоведение. В соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Очевидно, что допуск того или иного лица, даже если оно не является членом коллегии адвокатов, в качестве защитника по уголовному делу никоим образом не способен нанести вред названным ценностям».
Как явствует из утвержденных резолюцией Восьмого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Основных принципов, касающихся роли юристов, это право предполагает возможность обратиться к любому юристу (в том числе к лицу, не имеющему такого официального статуса, но выполняющему функции юриста) за помощью для защиты и отстаивания своих прав и защиты на всех стадиях уголовного судопроизводства.
При этом исключительное право выбора защитника принадлежит самому субъекту защиты, а не следователю, прокурору или какому-либо другому лицу. Отказ органов и должностных лиц в признании обоснованности сделанного гражданином выбора защитника и в допуске выбранного защитника к участию в деле может быть обжалован в суд на основании статьи 46 Конституции Российской Федерации.
Государство, гарантируя каждому обвиняемому и подозреваемому право на получение квалифицированной юридической помощи адвоката (статья 48 Конституции Российской Федерации), тем самым берет на себя обязательство предоставить ему по его просьбе именно такую помощь, в том числе в случаях, когда сам обвиняемый по тем или иным причинам лишен возможности самостоятельно пригласить избранного им защитника. В силу статьи 55 (часть 1) Конституции Российской Федерации эти конституционные положения, однако, не должны толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, в частности права привлечь для осуществления своей защиты наряду с защитником - адвокатом других специалистов в самых различных областях знаний, включая правоведение. В соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Очевидно, что допуск того или иного лица, даже если оно не является членом коллегии адвокатов, в качестве защитника по уголовному делу никоим образом не способен нанести вред названным ценностям».
Николай Трофимович Ведерников:
«Используемый в статье 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации термин "защитник" обозначает понятие более широкое, нежели понятие "адвокат", что было подтверждено в ходе судебного заседания заключением эксперта - лингвиста. Право пользоваться помощью защитника (часть 2 статьи 48 Конституции Российской Федерации) является самостоятельным конституционным правом и существует наряду с правом на получение квалифицированной юридической помощи (часть 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации), и его нельзя сводить к оказанию лишь юридической помощи подозреваемому и обвиняемому.
Закрепление в статье 48 Конституции Российской Федерации права каждого обвиняемого пользоваться при защите от обвинения квалифицированной юридической помощью защитника не может расцениваться как наличие у него обязанности обращаться за оказанием юридической помощи только к членам коллегий адвокатов. Более того, обвиняемый может вообще отказаться от услуг защитника и защищать себя сам либо не защищаться вообще и такой отказ не будет нарушением его права на защиту, за исключением случаев, когда в силу требований закона участие защитника обязательно (статья 49 УПК РСФСР). Как известно, однако, и по данной категории дел отказ обвиняемого от адвоката может быть удовлетворен полномочным органом».
Закрепление в статье 48 Конституции Российской Федерации права каждого обвиняемого пользоваться при защите от обвинения квалифицированной юридической помощью защитника не может расцениваться как наличие у него обязанности обращаться за оказанием юридической помощи только к членам коллегий адвокатов. Более того, обвиняемый может вообще отказаться от услуг защитника и защищать себя сам либо не защищаться вообще и такой отказ не будет нарушением его права на защиту, за исключением случаев, когда в силу требований закона участие защитника обязательно (статья 49 УПК РСФСР). Как известно, однако, и по данной категории дел отказ обвиняемого от адвоката может быть удовлетворен полномочным органом».
Полагаю, описанное исчерпывающим образом показывает, что замысел авторов ныне действующей Конституции никак не предполагал отождествление конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи посредством обращения к «проверенным государством» адвокатам с обязанностью обращаться только к ним.
А если так, то получается, что фактически инициатива по введению всеобщей адвокатской монополии на любое судебное представительство – это ничто иное, как попытка подменить те цели, ради которых адвокатура вообще была воссоздана, и "протащить" регулирование, которое было отвергнуто в основополагающем для нашего современного правопорядка документе.
А если так, то получается, что фактически инициатива по введению всеобщей адвокатской монополии на любое судебное представительство – это ничто иное, как попытка подменить те цели, ради которых адвокатура вообще была воссоздана, и "протащить" регулирование, которое было отвергнуто в основополагающем для нашего современного правопорядка документе.
Ошибка № 2
«Адвокатская монополия – это прогрессивно, потому что она есть
во всех развитых западных правопорядках»
во всех развитых западных правопорядках»
Я не хочу здесь останавливаться на выраженных иноагентских нотках утверждений о превосходстве правопорядков недружественных стран над отечественным на четвертом году СВО (ибо о таких вещах, если честно, даже думать не хочется).
Однако поскольку такие утверждения встречаются регулярно (и в том числе, в указанном выше исследовании синантропной фауны в исполнении уважаемого Ю.С. Пилипенко), о них тоже необходимо высказаться.
Итак, в основе этих утверждений лежит простейший силлогизм из двух посылок и одного вывода на их базе: «В западных правопорядках есть адвокатская монополия. Западные правопорядки – развитые. Следовательно, адвокатская монополия является необходимым элементом развитого правопорядка».
С точки зрения сухой формальной логики это, безусловно, верное утверждение, и потому оно выглядит внешне убедительным.
Однако если я скажу, например, «Все мошенники – плохие люди. Все адвокаты – мошенники. Следовательно, все адвокаты – плохие люди», это тоже будет абсолютно верное с точки зрения формальной логики утверждение. Но фактически верным оно от этого не станет.
Поэтому, в случае указанным тезисом мы имеем попытку апологетов монополии уклониться от реального доказывания её связи с социально-экономическим прогрессом посредством банальной когнитивной уловки «логично значит верно».
Между тем, в действительности, в этом утверждении кроется колоссальная историческая ошибка. Сложившаяся в западных правопорядках адвокатская монополия – это не более, чем реликт, живое нормативное ископаемое, оставшееся с ещё феодальных времён, когда никакими развитыми эти правопорядки и близко не были. Это управленческий аналог папоротника, щитня и кистеперой рыбы, если угодно.
Подробнее об этом будет рассказано в грядущем переводе статьи Ричарда Аллена Познера 1993 года «Материальный базис юриспруденции», выдержки из которого (с любезного разрешения самого автора) были опубликованы в 2017 году в журнале «Закон», а полный текст чуть позже появится на сайте «Объединения юристов». Здесь же я сформулирую суть лишь тезисно.
Если коротко, то самозарождение адвокатской монополии в Средние Века было обусловлено сугубо социально-экономическими причинами, идентичными практически для всех цехов/гильдий того времени:
Во-первых, для системной профессиональной работы с огромным корпусом нормативных источников (особенно в системе некодифицированного прецедентного права) требовались колоссальные библиотеки и возможность для начинающих практиков консультироваться с опытными коллегами. В условиях же дороговизны книг и отсутствия интернета и компьютеров наличием таких библиотек могли похвастаться только адвокатские объединения. Сюда же примыкает и банальное обеспечение бумагой/пергаментом и писчими принадлежностями, которое намного проще было организовывать в формате совместных закупок.
А во-вторых, в условиях ещё не разложившегося сословного общества с легализованным социальным неравенством, адвокатский цех давал необходимую защиту экономических и иных стратегических интересов, выступая в роли заменителя профсоюза в конфликтах с представителями правящей аристократии.
Разумеется, тут возникает вопрос – почему же адвокатская монополия не прекратила существование подобно остальным цехам с развитием буржуазного строя?
Ответ на него предельно прост – в отличие от остальных цехов адвокаты в западных странах успели буквально врасти в государственную систему. Для нас это непривычно, но в тех же США в порядке вещей ситуация, когда частнопрактикующий юрист становится прокурором, прокурор – мэром или губернатором, мэр или губернатор – конгрессменом или сенатором, а конгрессмен или сенатор – слагает полномочия и возвращается к частной юридической практике (если не верите, посмотрите биографию, например, Томаса Эдмунда Дьюи – примечательнешей карьеры был коллега).
И разумеется, когда у адвокатской монополии есть ТАКОЕ лобби на всех уровнях регулирования – упразднять её банально некому, даже если на это есть общественный запрос (а он есть - шутки про то, что "сбитый скунс отличается от сбитого адвоката наличием перед скунсом следов торможения" стали популярны не на пустом месте, не говоря уже об упомянутых в предисловии серьезных трудах по теме).
Таким образом, в плане общественного прогресса адвокатская монополия – это не «шаг вперёд». Это «сто шагов назад».
Однако поскольку такие утверждения встречаются регулярно (и в том числе, в указанном выше исследовании синантропной фауны в исполнении уважаемого Ю.С. Пилипенко), о них тоже необходимо высказаться.
Итак, в основе этих утверждений лежит простейший силлогизм из двух посылок и одного вывода на их базе: «В западных правопорядках есть адвокатская монополия. Западные правопорядки – развитые. Следовательно, адвокатская монополия является необходимым элементом развитого правопорядка».
С точки зрения сухой формальной логики это, безусловно, верное утверждение, и потому оно выглядит внешне убедительным.
Однако если я скажу, например, «Все мошенники – плохие люди. Все адвокаты – мошенники. Следовательно, все адвокаты – плохие люди», это тоже будет абсолютно верное с точки зрения формальной логики утверждение. Но фактически верным оно от этого не станет.
Поэтому, в случае указанным тезисом мы имеем попытку апологетов монополии уклониться от реального доказывания её связи с социально-экономическим прогрессом посредством банальной когнитивной уловки «логично значит верно».
Между тем, в действительности, в этом утверждении кроется колоссальная историческая ошибка. Сложившаяся в западных правопорядках адвокатская монополия – это не более, чем реликт, живое нормативное ископаемое, оставшееся с ещё феодальных времён, когда никакими развитыми эти правопорядки и близко не были. Это управленческий аналог папоротника, щитня и кистеперой рыбы, если угодно.
Подробнее об этом будет рассказано в грядущем переводе статьи Ричарда Аллена Познера 1993 года «Материальный базис юриспруденции», выдержки из которого (с любезного разрешения самого автора) были опубликованы в 2017 году в журнале «Закон», а полный текст чуть позже появится на сайте «Объединения юристов». Здесь же я сформулирую суть лишь тезисно.
Если коротко, то самозарождение адвокатской монополии в Средние Века было обусловлено сугубо социально-экономическими причинами, идентичными практически для всех цехов/гильдий того времени:
Во-первых, для системной профессиональной работы с огромным корпусом нормативных источников (особенно в системе некодифицированного прецедентного права) требовались колоссальные библиотеки и возможность для начинающих практиков консультироваться с опытными коллегами. В условиях же дороговизны книг и отсутствия интернета и компьютеров наличием таких библиотек могли похвастаться только адвокатские объединения. Сюда же примыкает и банальное обеспечение бумагой/пергаментом и писчими принадлежностями, которое намного проще было организовывать в формате совместных закупок.
А во-вторых, в условиях ещё не разложившегося сословного общества с легализованным социальным неравенством, адвокатский цех давал необходимую защиту экономических и иных стратегических интересов, выступая в роли заменителя профсоюза в конфликтах с представителями правящей аристократии.
Разумеется, тут возникает вопрос – почему же адвокатская монополия не прекратила существование подобно остальным цехам с развитием буржуазного строя?
Ответ на него предельно прост – в отличие от остальных цехов адвокаты в западных странах успели буквально врасти в государственную систему. Для нас это непривычно, но в тех же США в порядке вещей ситуация, когда частнопрактикующий юрист становится прокурором, прокурор – мэром или губернатором, мэр или губернатор – конгрессменом или сенатором, а конгрессмен или сенатор – слагает полномочия и возвращается к частной юридической практике (если не верите, посмотрите биографию, например, Томаса Эдмунда Дьюи – примечательнешей карьеры был коллега).
И разумеется, когда у адвокатской монополии есть ТАКОЕ лобби на всех уровнях регулирования – упразднять её банально некому, даже если на это есть общественный запрос (а он есть - шутки про то, что "сбитый скунс отличается от сбитого адвоката наличием перед скунсом следов торможения" стали популярны не на пустом месте, не говоря уже об упомянутых в предисловии серьезных трудах по теме).
Таким образом, в плане общественного прогресса адвокатская монополия – это не «шаг вперёд». Это «сто шагов назад».
Ошибка № 3
«Объединение на базе ФПА безальтернативно,
потому что других механизмов регулирования просто нет»
потому что других механизмов регулирования просто нет»
И в завершение остановимся на ещё одном популярном тезисе о, якобы, отсутствии альтернатив регулирования профессионального сообщества, кроме объединения на базе ФПА.
«Программной речью» по данному тезису можно считать выступление в 2017 году тогдашнего президента платы адвокатов Самарской области Татьяны Бутовченко (см. тут https://fparf.ru/polemic/opinions/alternativy-ne-sushchestvuet/).
Ключевым моментом в ней, на мой взгляд, является ещё одна игра с подменой понятий:
«Отрицать очевидное бессмысленно: за бесконечно длинный период дискуссии «неадвокатский сектор» не предпринял никаких мер по созданию хоть какого-то подобия системы регулирования сферы оказания юридических услуг».
Оставим в стороне вопрос о корректности подхода «если я чего-то не вижу или меня оно не устраивает, то оно не существует», равно как и логики «раз никто ещё рынок не монополизировал, то мы первые будем».
Основная ошибка кроется, на мой взгляд, в намеренном сужении кругозора искомых альтернатив до «предлагаемых неадвокатами». С чего вдруг вообще в вопросах государственного регулирования первоисточником стали чьи-то «предложения снизу», а не уже существующий опыт регулирования схожих отношений?
А такой опыт есть, причем сразу двухвариантный.
Во-первых, было Постановление Правительства от 15.04.1995 N 344 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по оказанию платных юридических услуг". Да, оно было, мягко говоря, небезупречно, но всё же действовало более 4 лет и по своей сути было куда ближе к тем мотивам нынешней реформы, которые были озвучены Минюстом, чем любая версия адвокатской монополии.
А во-вторых, конечно же, у нас есть колоссальный накопленный опыт саморегулирования деятельности оценщиков и арбитражных управляющих со страхованием ответственности и компенсационными фондами. Причем у оценщиков есть ещё и регулярная раздельная аттестация по разным группам объектов оценки (недвижимость, движимое имущество и «бизнес»).
Что реально защитит интересы пострадавшего от недобросовестного представителя гражданина лучше – реальная гарантированная компенсация понесенных убытков или же строгое порицание нерадивого адвоката в рамках дисциплинарной процедуры? Вопрос риторический, я полагаю.
«Программной речью» по данному тезису можно считать выступление в 2017 году тогдашнего президента платы адвокатов Самарской области Татьяны Бутовченко (см. тут https://fparf.ru/polemic/opinions/alternativy-ne-sushchestvuet/).
Ключевым моментом в ней, на мой взгляд, является ещё одна игра с подменой понятий:
«Отрицать очевидное бессмысленно: за бесконечно длинный период дискуссии «неадвокатский сектор» не предпринял никаких мер по созданию хоть какого-то подобия системы регулирования сферы оказания юридических услуг».
Оставим в стороне вопрос о корректности подхода «если я чего-то не вижу или меня оно не устраивает, то оно не существует», равно как и логики «раз никто ещё рынок не монополизировал, то мы первые будем».
Основная ошибка кроется, на мой взгляд, в намеренном сужении кругозора искомых альтернатив до «предлагаемых неадвокатами». С чего вдруг вообще в вопросах государственного регулирования первоисточником стали чьи-то «предложения снизу», а не уже существующий опыт регулирования схожих отношений?
А такой опыт есть, причем сразу двухвариантный.
Во-первых, было Постановление Правительства от 15.04.1995 N 344 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по оказанию платных юридических услуг". Да, оно было, мягко говоря, небезупречно, но всё же действовало более 4 лет и по своей сути было куда ближе к тем мотивам нынешней реформы, которые были озвучены Минюстом, чем любая версия адвокатской монополии.
А во-вторых, конечно же, у нас есть колоссальный накопленный опыт саморегулирования деятельности оценщиков и арбитражных управляющих со страхованием ответственности и компенсационными фондами. Причем у оценщиков есть ещё и регулярная раздельная аттестация по разным группам объектов оценки (недвижимость, движимое имущество и «бизнес»).
Что реально защитит интересы пострадавшего от недобросовестного представителя гражданина лучше – реальная гарантированная компенсация понесенных убытков или же строгое порицание нерадивого адвоката в рамках дисциплинарной процедуры? Вопрос риторический, я полагаю.
Вот так и получается, что в основе апологии адвокатской монополии лежат сплошные ошибки. А если ошибки лежат в её основе – может быть, всё же, ошибочна она сама?
Источник: публикация на портале Закон.ру
