мнение
Конституционна ли адвокатская монополия?
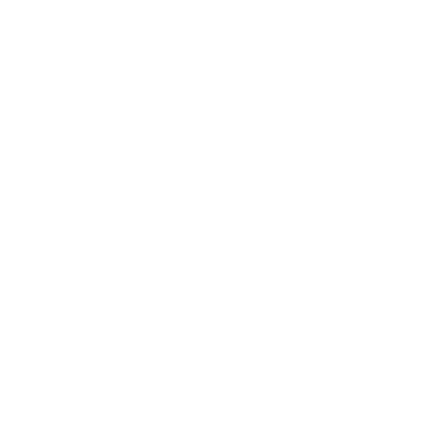
Иван Брикульский
юрист, Центр конституционного правосудия,
г. Москва
г. Москва
Об адвокатской монополии спорят давно. Спорят без устали. Но вот пришло время обсудить эту тему всерьёз. А для этого – соотнести адвокатскую монополию с конституционными началами. Без ответа на вопрос о конституционных началах нельзя двигаться дальше. Это – отправная точка дискуссии. Вспомним два простых принципа, на которых строится конституционализм и право в частности.
Первое. Свобода — это прежде всего наличие защищённой частной сферы, где человек действует по своему разуму и воле вне государства. Подлинная свобода начинается там, где у человека есть возможность самостоятельно решать, кому доверить свои права и интересы. Это следует из принципа автономии и достоинства личности (статья 21, часть 1, Конституции).
Первое. Свобода — это прежде всего наличие защищённой частной сферы, где человек действует по своему разуму и воле вне государства. Подлинная свобода начинается там, где у человека есть возможность самостоятельно решать, кому доверить свои права и интересы. Это следует из принципа автономии и достоинства личности (статья 21, часть 1, Конституции).
Второе. Рынок – это не только про деньги или куплю-продажу, как многие думают. Рынок – про возможность каждому реализовать свои планы, находя добровольные пересечения с планами других. Через рынок мы строим мосты, нанимаем исполнителей, создаём объединения и защищаем свои права — без необходимости подчиняться чьей-то директиве. Рынок — это среда, где индивид свободен выбирать, пробовать, ошибаться и исправляться. И в этом смысле рынок — универсальный порядок добровольного взаимодействия, который противостоит принуждению.
В этом обзоре мы сначала пройдёмся по формально-логическим аргументам идеи адвокатской монополии и нового законопроекта, а затем перейдём к конституционным.
Селективная рациональность аргументации.
В пояснительной записке Минюст опирается на положения статьи 48 Конституции РФ и её толкования в практике Конституционного Суда. Это норма о конституционных гарантиях квалифицированной юридической помощи. Из этой нормы он выводит некий публичный интерес в качестве юридических услуг. Но, по сути, строит рассуждение в селективных рамках, искусственно сузив круг допущений для своей логики.
Формально структура рассуждений выглядит стройно: первое – юридическая помощь важна для функционирования правосудия (публичный интерес), второе – значит, государство должно регулировать её так, чтобы гарантировать качество и доступность.
Но Минюст берёт за отправную точку только одну часть конституционной конструкции — статью 48 (право на квалифицированную юридическую помощь) и публикации КС, касающиеся именно публичного интереса в правосудии, при этом игнорирует другие равноценные или даже более общие положения Конституции, которые составляют не менее значимую конституционную ткань, во-первых, статьи 8 и 34, которые закрепляют свободу экономической деятельности и гарантии конкуренции, во-вторых, статью 19 о равенстве и недопустимости привилегий. Иными словами, это аргументация в пределах заранее заданного круга допущений.
Минюст заранее исходит из того, что “качество = контроль через монополию” и строит всю свою рациональность вокруг этой цели. При этом не рассматривается всерьёз альтернативная гипотеза, что свободный рынок юридических услуг через конкуренцию и репутацию может не хуже, а даже лучше гарантировать качество, чем централизованный фильтр через адвокатские лицензии, а значит, такие меры по ограничению могут быть несоразмерны и избыточны для достижения публичного интереса.
“Публичные начала” статьи 48 Конституции толкуются так, будто они автоматически требуют именно административного регулирования и лицензирования (а ещё точнее — монополии), подменяя этим обоснование самой необходимости ограничения экономической свободы и конкуренции. Фактически здесь происходит логическая ошибка “псевдосамоочевидности”: юридическая помощь важна для населения и суда → значит, нужен жесткий государственный контроль.
Это упрощённая модель, которая не учитывает, что, во-первых, любая государственная мера должна быть соразмерна и минимально вмешиваться в свободы (ст. 55 Конституции РФ), во-вторых, государство может обеспечивать качество другими инструментами: саморегулированием, страхованием профессиональной ответственности, судебными санкциями за некомпетентную защиту. Иными, менее обременительными мерами.
Парадоксальность селективной рациональности по статье 48 Конституции.
Если рассуждать с позиции формальной логики, то адвокат нужен гражданину, в том числе, для того, чтобы противостоять государству, когда оно действует против него: в суде, в налоговых спорах, в конфликтах с госорганами и т.д. Мысль простая: гражданин находится в потенциальном или явном конфликте с государством, и для защиты ему нужен представитель, который действует независимо от этого государства, исключительно в интересах доверителя.
Если для того, чтобы защищать человека от государства, необходимо быть членом особой корпорации, контролируемой этим же государством (через министерство, через дисциплинарные комиссии и специальные реестры), значит, государство фактически определяет, кто может оказывать сопротивление ему самому.
По смыслу принципа правового государства, права на квалифицированную юридическую помощь и гарантий судебной защиты, осударство не должно превращать обеспечение свободы в исключительное право, которое само же контролирует, потому что тогда оно легко может использовать это право не в интересах граждан, а для защиты собственных интересов.
В общем, если государство через адвокатскую монополию защищает граждан, то кто тогда защитит от государства?
Почему государственное регулирование – это не безусловное благо и не самоцель?
Законопроект ошибочно исходит из такой парадигмы: раз какая-то сфера ещё не урегулирована, её нужно обязательно урегулировать! Вместо того, чтобы обеспечивать людям условия для свободных выборов и множества альтернатив, государство начинает само решать, что правильно и кто имеет право действовать.
Государственное регулирование — это всего лишь инструмент, призванный служить людям, а не подменять собой их собственные цели и свободу выбора. Когда регулирование становится самоцелью, то есть когда оно существует ради самого факта контроля и организации, оно перестаёт быть способом защиты общества и превращается в источник принуждения.
Задача государства — не создавать конкретный порядок, а лишь устанавливать такие общие рамки, в которых порядок может самопроизвольно формироваться в результате свободного взаимодействия людей. Иначе государство начинает играть роль архитектора жизни граждан вместо того, чтобы быть гарантом их права строить её самостоятельно. Поэтому каждое вмешательство государства должно оцениваться не по красоте регулирующих схем, а по одному простому критерию: способствует ли оно свободе и самореализации людей — или, наоборот, подчиняет их жизнь чужим планам, навязываемым сверху?
Ещё раз о целях государственного регулирования.
Задача государства в регулировании – всего лишь создавать условия для самоподдерживающегося порядка, а не навязывать конкретные решения или строить одноканальное развитие.
Общество — это не схема, а живой спонтанный порядок, где из хаоса миллионов свободных решений возникает стройность, которая в принципе недостижима через команды и регламенты. Никто не обязан заранее знать, кто с кем вступит в контракт, кто у кого купит услугу, кого выберет в качестве защитника или исполнителя.
Государство должно обеспечить честные рамки игры (верховенство закона, суды, возможность взыскать убытки), а не диктовать, кто имеет право играть. Как говорил Фридрих фон Хайек, как и в природе, для того чтобы стимулировать формирование такого порядка, не требуется способность предсказывать поведение отдельных атомов — которое будет зависеть от неизвестных особых условий, в которых каждый из них окажется.
Почему наличие свободной частной сферы жизни ещё не означает, что её должно регулировать государство?
То, что какая-то область человеческой жизни существует и важна — например, юридические услуги или образование — ещё не делает государственное вмешательство в неё обязательным или даже желательным. Наоборот, именно в таких сферах часто лучше всего работает свобода индивидуального выбора и конкуренция.
Государство должно быть крайне осторожным в том, чтобы переходить от защиты общих рамок — одинаковых для всех законов, которые не выделяют никого специально — к установлению детальных правил и особенно к созданию монополий.
Иначе мы быстро скатываемся в ситуацию, когда ради “правильной цели” начинают использовать методы, несовместимые с самой свободой. Это иллюзия, что стоит только признать некую сферу важной — и тут же можно оправдать любые формы её регулирования, даже если они лишают людей выбора и подчиняют их воле публичной власти.
Свободное общество устроено иначе: оно оставляет людям возможность самим решать, каким способом удовлетворять свои потребности, пробовать разные пути, конкурировать и выбирать. А задача государства — не организовать сам процесс жизни, а создать такие общие и честные правила, при которых этот процесс будет развиваться естественно, без произвола и насилия.
Почему качество услуг – это про конкуренцию, а государственное регулирование?
Качество любой услуги — в том числе юридической — в живом обществе лучше всего гарантируется не государственными лицензиями и монополиями, а конкуренцией между теми, кто эти услуги предлагает.
В сложном обществе знания рассеяны среди миллионов людей, и ни одно министерство или иной госорган не может обладать всей информацией о том, кто именно из множества поставщиков услуг — в каждом отдельном случае — лучше решит проблему конкретного человека. Государственное регулирование – особенно в форме монополии — не заинтересовано выявлять лучших, а только проверяет соответствие формальным критериям. Эти критерии не всегда напрямую связаны с качеством, а часто служат лишь фильтром, закрывающим рынок для “чужих”.
Но рынок имеет встроенный механизм исправления таких ошибок: репутация, сарафанное радио, конкуренция цен — все это гораздо эффективнее, чем государственная опека. И, что важно, рынок даёт людям право рисковать и учиться на собственном опыте. Свобода без риска — не свобода, а попечительство.
Конкуренция — и есть естественный фильтр качества, который монополия устраняет. Саморегулирование через рынок – услуг и идей – эффективнее, чем административный порядок. Не существует такой государственной власти, которая могла бы лучше знать и понимать, что действительно выгодно каждому индивиду.
Выполняется ли требование пропорциональности?
Есть очевидная истина, о которой почему-то забывают, когда речь заходит об адвокатской монополии: свобода экономической деятельности и монополия — вещи по своей природе несовместимые.
Конституция России в статьях 8 и 34 прямо гарантирует свободу предпринимательской и иной законной экономической деятельности. Это значит, что человек волен предлагать свои услуги на рынке, а граждане свободны их выбирать. Как только мы вводим монополию в какой-то сфере, особенно в сфере юридических услуг, мы уничтожаем сам смысл этой свободы. Потому что свобода — это выбор, а монополия — это его отсутствие, антипод.
Именно рынок юридических услуг — один из тех рынков, где свобода выбора и конкуренция имеют прямое конституционное значение для защиты других прав человека.
Статья 55 Конституции РФ требует: любые ограничения прав должны быть пропорциональны, оправданы и необходимы для защиты других конституционных ценностей. Адвокатская монополия не выдерживает этой проверки, во-первых, сомнительно, что она не делает услуги доступнее — напротив, услуги дорожают, во-вторых, не гарантирует автоматически качества — среди адвокатов есть и слабые специалисты, однако гарантирует монополию, высокие взносы в палату и искусственные барьеры для других юристов.
Соблюдается ли легитимная цель?
Для ограничения прав (а здесь затрагивается и свобода экономической деятельности, и свобода конкуренции) государство обязано указать такую цель, которая сама по себе действительно легитимна с точки зрения конституционного строя. Но в законопроекта чётко говорится, что цель – гарантия квалифицированной юридической помощи. Однако это подмена понятий: гарантировать право на помощь ≠ означает гарантировать её через монополию адвокатов.
Реальная легитимная цель — это доступность и качество защиты прав граждан, а не создание узкого коридора, через который граждане обязаны проходить. Монополия адвокатов не является сама по себе способом реализации права на защиту — она просто административная мера, которая, во-первых, исключает других профессионалов, во-вторых, превращает доступ к суду в вопрос членства в закрытой корпорации.
Пригодность.Действительно ли адвокатская монополия лучше гарантирует качество, чем свободная конкуренция, рыночная репутация и ответственность перед клиентами?
Но даже если ради эксперимента допустить, что цель всё же легитимна, возникает следующий вопрос теста – является ли монополия пригодным средством, чтобы эту цель достичь?
Сомнительно, поскольку монополия на практике, во-первых, не даёт объективных гарантий качества (все знают случаи формальных адвокатов, чья помощь хуже, чем у “простых” юристов), во-вторых, повышает цены и снижает стимулы для индивидуального совершенствования (исчезает страх конкуренции).
Необходимость. Есть ли менее ограничительные механизмы? Очевидно, есть. Это репутация, профессиональная ответственность, целая плеяда дисциплинарных и иных санкций для адвокатов, в том числе за недобросовестное представительство, и открытые рейтинги, и добровольные ассоциации, где люди сами отсеивают слабых. Подробнее о роли конкуренции писал выше.
Соразмерность в узком смысле (балансирование). Перевешивает ли выгода монополии для обеспечения качества тот ущерб, который она наносит свободе конкуренции, праву граждан выбирать своего защитника и правам других юристов работать в этой сфере? Очевидно, не перевешивает.
Вместо выводов
Открывается огромное поле для профессиональной дискуссии сообщества юристов, которое определит будущее и самостоятельность юридической корпорации.
В этом обзоре мы сначала пройдёмся по формально-логическим аргументам идеи адвокатской монополии и нового законопроекта, а затем перейдём к конституционным.
Селективная рациональность аргументации.
В пояснительной записке Минюст опирается на положения статьи 48 Конституции РФ и её толкования в практике Конституционного Суда. Это норма о конституционных гарантиях квалифицированной юридической помощи. Из этой нормы он выводит некий публичный интерес в качестве юридических услуг. Но, по сути, строит рассуждение в селективных рамках, искусственно сузив круг допущений для своей логики.
Формально структура рассуждений выглядит стройно: первое – юридическая помощь важна для функционирования правосудия (публичный интерес), второе – значит, государство должно регулировать её так, чтобы гарантировать качество и доступность.
Но Минюст берёт за отправную точку только одну часть конституционной конструкции — статью 48 (право на квалифицированную юридическую помощь) и публикации КС, касающиеся именно публичного интереса в правосудии, при этом игнорирует другие равноценные или даже более общие положения Конституции, которые составляют не менее значимую конституционную ткань, во-первых, статьи 8 и 34, которые закрепляют свободу экономической деятельности и гарантии конкуренции, во-вторых, статью 19 о равенстве и недопустимости привилегий. Иными словами, это аргументация в пределах заранее заданного круга допущений.
Минюст заранее исходит из того, что “качество = контроль через монополию” и строит всю свою рациональность вокруг этой цели. При этом не рассматривается всерьёз альтернативная гипотеза, что свободный рынок юридических услуг через конкуренцию и репутацию может не хуже, а даже лучше гарантировать качество, чем централизованный фильтр через адвокатские лицензии, а значит, такие меры по ограничению могут быть несоразмерны и избыточны для достижения публичного интереса.
“Публичные начала” статьи 48 Конституции толкуются так, будто они автоматически требуют именно административного регулирования и лицензирования (а ещё точнее — монополии), подменяя этим обоснование самой необходимости ограничения экономической свободы и конкуренции. Фактически здесь происходит логическая ошибка “псевдосамоочевидности”: юридическая помощь важна для населения и суда → значит, нужен жесткий государственный контроль.
Это упрощённая модель, которая не учитывает, что, во-первых, любая государственная мера должна быть соразмерна и минимально вмешиваться в свободы (ст. 55 Конституции РФ), во-вторых, государство может обеспечивать качество другими инструментами: саморегулированием, страхованием профессиональной ответственности, судебными санкциями за некомпетентную защиту. Иными, менее обременительными мерами.
Парадоксальность селективной рациональности по статье 48 Конституции.
Если рассуждать с позиции формальной логики, то адвокат нужен гражданину, в том числе, для того, чтобы противостоять государству, когда оно действует против него: в суде, в налоговых спорах, в конфликтах с госорганами и т.д. Мысль простая: гражданин находится в потенциальном или явном конфликте с государством, и для защиты ему нужен представитель, который действует независимо от этого государства, исключительно в интересах доверителя.
Если для того, чтобы защищать человека от государства, необходимо быть членом особой корпорации, контролируемой этим же государством (через министерство, через дисциплинарные комиссии и специальные реестры), значит, государство фактически определяет, кто может оказывать сопротивление ему самому.
По смыслу принципа правового государства, права на квалифицированную юридическую помощь и гарантий судебной защиты, осударство не должно превращать обеспечение свободы в исключительное право, которое само же контролирует, потому что тогда оно легко может использовать это право не в интересах граждан, а для защиты собственных интересов.
В общем, если государство через адвокатскую монополию защищает граждан, то кто тогда защитит от государства?
Почему государственное регулирование – это не безусловное благо и не самоцель?
Законопроект ошибочно исходит из такой парадигмы: раз какая-то сфера ещё не урегулирована, её нужно обязательно урегулировать! Вместо того, чтобы обеспечивать людям условия для свободных выборов и множества альтернатив, государство начинает само решать, что правильно и кто имеет право действовать.
Государственное регулирование — это всего лишь инструмент, призванный служить людям, а не подменять собой их собственные цели и свободу выбора. Когда регулирование становится самоцелью, то есть когда оно существует ради самого факта контроля и организации, оно перестаёт быть способом защиты общества и превращается в источник принуждения.
Задача государства — не создавать конкретный порядок, а лишь устанавливать такие общие рамки, в которых порядок может самопроизвольно формироваться в результате свободного взаимодействия людей. Иначе государство начинает играть роль архитектора жизни граждан вместо того, чтобы быть гарантом их права строить её самостоятельно. Поэтому каждое вмешательство государства должно оцениваться не по красоте регулирующих схем, а по одному простому критерию: способствует ли оно свободе и самореализации людей — или, наоборот, подчиняет их жизнь чужим планам, навязываемым сверху?
Ещё раз о целях государственного регулирования.
Задача государства в регулировании – всего лишь создавать условия для самоподдерживающегося порядка, а не навязывать конкретные решения или строить одноканальное развитие.
Общество — это не схема, а живой спонтанный порядок, где из хаоса миллионов свободных решений возникает стройность, которая в принципе недостижима через команды и регламенты. Никто не обязан заранее знать, кто с кем вступит в контракт, кто у кого купит услугу, кого выберет в качестве защитника или исполнителя.
Государство должно обеспечить честные рамки игры (верховенство закона, суды, возможность взыскать убытки), а не диктовать, кто имеет право играть. Как говорил Фридрих фон Хайек, как и в природе, для того чтобы стимулировать формирование такого порядка, не требуется способность предсказывать поведение отдельных атомов — которое будет зависеть от неизвестных особых условий, в которых каждый из них окажется.
Почему наличие свободной частной сферы жизни ещё не означает, что её должно регулировать государство?
То, что какая-то область человеческой жизни существует и важна — например, юридические услуги или образование — ещё не делает государственное вмешательство в неё обязательным или даже желательным. Наоборот, именно в таких сферах часто лучше всего работает свобода индивидуального выбора и конкуренция.
Государство должно быть крайне осторожным в том, чтобы переходить от защиты общих рамок — одинаковых для всех законов, которые не выделяют никого специально — к установлению детальных правил и особенно к созданию монополий.
Иначе мы быстро скатываемся в ситуацию, когда ради “правильной цели” начинают использовать методы, несовместимые с самой свободой. Это иллюзия, что стоит только признать некую сферу важной — и тут же можно оправдать любые формы её регулирования, даже если они лишают людей выбора и подчиняют их воле публичной власти.
Свободное общество устроено иначе: оно оставляет людям возможность самим решать, каким способом удовлетворять свои потребности, пробовать разные пути, конкурировать и выбирать. А задача государства — не организовать сам процесс жизни, а создать такие общие и честные правила, при которых этот процесс будет развиваться естественно, без произвола и насилия.
Почему качество услуг – это про конкуренцию, а государственное регулирование?
Качество любой услуги — в том числе юридической — в живом обществе лучше всего гарантируется не государственными лицензиями и монополиями, а конкуренцией между теми, кто эти услуги предлагает.
В сложном обществе знания рассеяны среди миллионов людей, и ни одно министерство или иной госорган не может обладать всей информацией о том, кто именно из множества поставщиков услуг — в каждом отдельном случае — лучше решит проблему конкретного человека. Государственное регулирование – особенно в форме монополии — не заинтересовано выявлять лучших, а только проверяет соответствие формальным критериям. Эти критерии не всегда напрямую связаны с качеством, а часто служат лишь фильтром, закрывающим рынок для “чужих”.
Но рынок имеет встроенный механизм исправления таких ошибок: репутация, сарафанное радио, конкуренция цен — все это гораздо эффективнее, чем государственная опека. И, что важно, рынок даёт людям право рисковать и учиться на собственном опыте. Свобода без риска — не свобода, а попечительство.
Конкуренция — и есть естественный фильтр качества, который монополия устраняет. Саморегулирование через рынок – услуг и идей – эффективнее, чем административный порядок. Не существует такой государственной власти, которая могла бы лучше знать и понимать, что действительно выгодно каждому индивиду.
Выполняется ли требование пропорциональности?
Есть очевидная истина, о которой почему-то забывают, когда речь заходит об адвокатской монополии: свобода экономической деятельности и монополия — вещи по своей природе несовместимые.
Конституция России в статьях 8 и 34 прямо гарантирует свободу предпринимательской и иной законной экономической деятельности. Это значит, что человек волен предлагать свои услуги на рынке, а граждане свободны их выбирать. Как только мы вводим монополию в какой-то сфере, особенно в сфере юридических услуг, мы уничтожаем сам смысл этой свободы. Потому что свобода — это выбор, а монополия — это его отсутствие, антипод.
Именно рынок юридических услуг — один из тех рынков, где свобода выбора и конкуренция имеют прямое конституционное значение для защиты других прав человека.
Статья 55 Конституции РФ требует: любые ограничения прав должны быть пропорциональны, оправданы и необходимы для защиты других конституционных ценностей. Адвокатская монополия не выдерживает этой проверки, во-первых, сомнительно, что она не делает услуги доступнее — напротив, услуги дорожают, во-вторых, не гарантирует автоматически качества — среди адвокатов есть и слабые специалисты, однако гарантирует монополию, высокие взносы в палату и искусственные барьеры для других юристов.
Соблюдается ли легитимная цель?
Для ограничения прав (а здесь затрагивается и свобода экономической деятельности, и свобода конкуренции) государство обязано указать такую цель, которая сама по себе действительно легитимна с точки зрения конституционного строя. Но в законопроекта чётко говорится, что цель – гарантия квалифицированной юридической помощи. Однако это подмена понятий: гарантировать право на помощь ≠ означает гарантировать её через монополию адвокатов.
Реальная легитимная цель — это доступность и качество защиты прав граждан, а не создание узкого коридора, через который граждане обязаны проходить. Монополия адвокатов не является сама по себе способом реализации права на защиту — она просто административная мера, которая, во-первых, исключает других профессионалов, во-вторых, превращает доступ к суду в вопрос членства в закрытой корпорации.
Пригодность.Действительно ли адвокатская монополия лучше гарантирует качество, чем свободная конкуренция, рыночная репутация и ответственность перед клиентами?
Но даже если ради эксперимента допустить, что цель всё же легитимна, возникает следующий вопрос теста – является ли монополия пригодным средством, чтобы эту цель достичь?
Сомнительно, поскольку монополия на практике, во-первых, не даёт объективных гарантий качества (все знают случаи формальных адвокатов, чья помощь хуже, чем у “простых” юристов), во-вторых, повышает цены и снижает стимулы для индивидуального совершенствования (исчезает страх конкуренции).
Необходимость. Есть ли менее ограничительные механизмы? Очевидно, есть. Это репутация, профессиональная ответственность, целая плеяда дисциплинарных и иных санкций для адвокатов, в том числе за недобросовестное представительство, и открытые рейтинги, и добровольные ассоциации, где люди сами отсеивают слабых. Подробнее о роли конкуренции писал выше.
Соразмерность в узком смысле (балансирование). Перевешивает ли выгода монополии для обеспечения качества тот ущерб, который она наносит свободе конкуренции, праву граждан выбирать своего защитника и правам других юристов работать в этой сфере? Очевидно, не перевешивает.
Вместо выводов
Открывается огромное поле для профессиональной дискуссии сообщества юристов, которое определит будущее и самостоятельность юридической корпорации.
Источник: публикация на Закон.ру
