мнение
Негативные последствия адвокатской монополии:
опыт Армении как предостережение
опыт Армении как предостережение
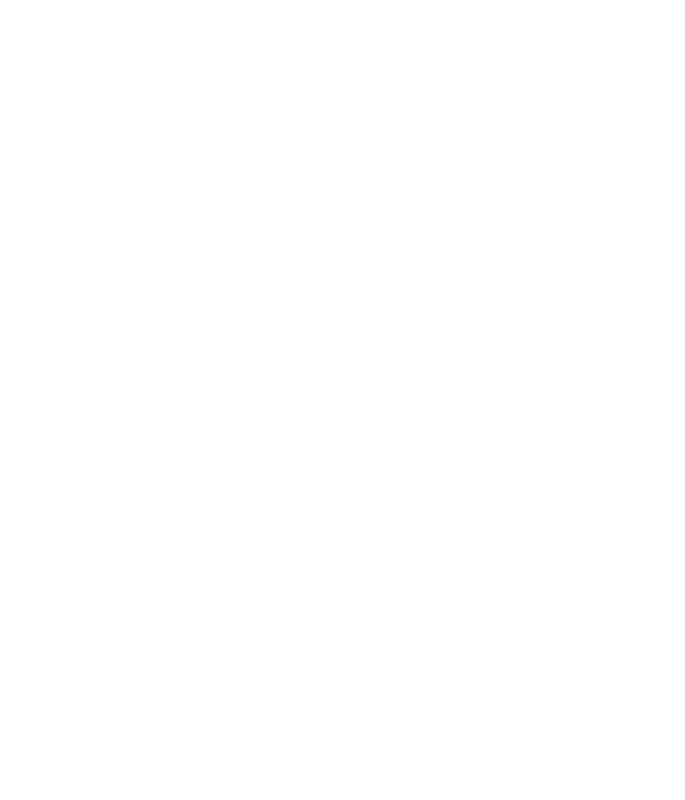
Гор Папанян
Старший юрист
ООО «Концепция Бизнеса»,
г. Москва
ООО «Концепция Бизнеса»,
г. Москва
Дискуссия о введении в России адвокатской монополии на судебное представительство стала одним из ключевых правовых и политических вопросов 2025 года.
Минюст Российской Федерации разработал проект федерального закона № 158248 о внесении изменений в законодательство об адвокатуре и об осуществлении представительства в судах. Его суть сводится к замене существующей системы представителей в суде (юристов и адвокатов) единой адвокатской корпорацией под надзором Министерства юстиции и Федеральной палаты адвокатов.
Минюст Российской Федерации разработал проект федерального закона № 158248 о внесении изменений в законодательство об адвокатуре и об осуществлении представительства в судах. Его суть сводится к замене существующей системы представителей в суде (юристов и адвокатов) единой адвокатской корпорацией под надзором Министерства юстиции и Федеральной палаты адвокатов.
Формально в пояснительной записке заявлены благие цели — повышение качества судебного представительства, укрепление профессиональных стандартов, обеспечение равных условий доступа к правосудию.
Однако по своей сути предлагаемая модель представляет собой монополизацию рынка юридической помощи, при которой единственный допущенный субъект профессиональной деятельности (адвокат) получает исключительные права, а все остальные участники рынка — от частнопрактикующих юристов до корпоративных правоведов — исключаются из него.
На первый взгляд идея выглядит логично: сосредоточить юридическую помощь в руках профессионалов, обязанных соблюдать Кодекс профессиональной этики и проходящих регулярное повышение квалификации. Но мировой и, особенно, постсоветский опыт показывает прямо противоположный результат. В странах, где была реализована подобная модель, — в частности, в Республике Армения — монополизация адвокатуры не повысила качество правовой защиты, зато привела к ограничению доступа граждан к правосудию, исчезновению конкуренции и потере независимости адвокатского сообщества.
Армянская модель особенно показательна, поскольку она была внедрена под теми же лозунгами, что сегодня звучат в России.
В Армении закон «Об адвокатуре» был принят в 2004 году. Он создал единую Палату адвокатов и закрепил обязательное членство всех практикующих юристов. Вся судебная защита — от гражданских споров до уголовных дел — была передана только адвокатам. Тогда это казалось шагом к профессионализации. Сегодня же всё чаще звучит оценка: реформа породила зависимость, бюрократию и закостенелость.
Председатель Палаты Симон Бабаян (2021 г.) в интервью журналу «Евразийская адвокатура» объяснял: чтобы стать адвокатом, нужно пройти годичное обучение в Школе адвокатов и сдать сложный экзамен, который не сдают около трети претендентов. Обучение платное, и лишь после него можно получить лицензию. Государство финансирует всего 59 ставок общественных защитников, а это значит, что бесплатная помощь доступна единицам.
Судьба армянской адвокатуры после введения монополии — это наглядный пример того, как «саморегулируемая» структура может быть превращена в управляемую государством бюрократию.
Сами армянские юристы уже открыто говорят, что монополия Палаты стала тормозом развития, так в статье «The Monopoly of the Chamber of Advocates should be abolished» адвокаты и бывшие функционеры Палаты прямо призывают отказаться от этой системы. По их словам, идея единой корпорации, которая якобы гарантирует качество, «создала закрытую касту, изолированную от общественных интересов и подконтрольную политическим влияниям». Авдокат Геворг Гезалян считает, что членство в Палате должно быть добровольным, а конкуренция между профессиональными объединениями — естественным фильтром качества. «Членство — это добровольный принцип, оно должно быть добровольным. Я должен иметь альтернативу — каждый юрист должен иметь альтернативу. А здесь альтернативы нет.»
В статье 2021 года, адвокат Ара Зограбян предупреждает, что когда у руководства Палаты есть и право на дисциплину, и на экзамены, и на финансирование, неизбежно возникает конфликт интересов. Адвокаты отмечают, что «всё больше решений принимаются не по сути права, а по правилам внутренней субординации». По сути, независимость адвоката стала формальностью.
Будучи адвокатом, а ныне судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Ваге Григорян в своем интервью изданию Hetq в 2018 году говорил следующее:
«Когда мы создавали Палату адвокатов, мы наивно думали, что единая организация обеспечит независимость профессии… Мы были очень наивны, потому что в государстве с авторитарной склонностью всё, что нужно сделать властям, — это положить руководство организации в свои карманы, чтобы иметь полный контроль над профессией».
По словам Григоряна, начиная с 2014 года руководство Палаты стало инструментом воздействия на адвокатов, позволив властям влиять на профессиональные решения через дисциплинарные производства, выборочные проверки и отказ в лицензии.
Так, «председатель коллегии регулярно прибегал к возбуждению дисциплинарных производств против «непослушных» адвокатов, нарушая даже минимальные процессуальные гарантии». Эти дисциплинарные меры нередко применялись к юристам, защищавшим клиентов в делах против государства или по «чувствительным» уголовным делам.
Отсутствие конкурирующих профессиональных объединений исключило возможность альтернативной защиты, апелляции или публичного контроля за решениями дисциплинарных органов.
На этом фоне слова Геворга Гёзаляна звучат особенно точно: «Когда государство может контролировать одну корпорацию, ему не нужно бороться с сотнями независимых юристов. Монополия упрощает власть, но убивает профессию».
Аргумент сторонников реформы о том, что монополизация профессии неизбежно приведёт к повышению качества юридических услуг, не подтверждается эмпирически. В Армении, где адвокатская монополия действует с 2005 года, ни одна независимая оценка (включая отчёты Совета Европы и ABA Rule of Law Initiative) не зафиксировала улучшения показателей качества судебного представительства или доступности правосудия. А между тем, международные стандарты (в частности, Рекомендации Комитета министров Совета Европы № R(2000)21), предписывают, что адвокатура должна быть самоуправляемым и независимым институтом.
Таким образом, в результате на рынке Армении сформировалась узкая прослойка практиков, а стоимость судебного представительства выросла, что ограничило доступ граждан к квалифицированной юридической помощи. В условиях единой монополизированной Палаты исчезла естественная конкуренция профессиональных взглядов. Отсутствие альтернативных ассоциаций лишило адвокатов возможности влиять на стандарты профессии или добиваться реформ.
Механизм «саморегулирования» перестал выполнять демократическую функцию и превратился в вертикаль дисциплины. Так, Совет Палаты объединяет функции административного, дисциплинарного и кадрового органа, а председатель имеет право возбуждать дисциплинарные производства и участвовать в квалификационных комиссиях.
Такая конструкция нарушает принцип разделения функций и создаёт систему личной зависимости.
В результате монополизации адвокатура в Армении столкнулась с кризисом доверия. Суды, органы прокуратуры и граждане стали воспринимать адвокатов не как независимых защитников, а как часть государственной системы. Сами адвокаты, опасаясь дисциплинарных санкций, нередко избегают острых или политически чувствительных дел.
В. Григорян охарактеризовал это как «неизбежную трясину», в которую профессия попала из-за монополии:
«Мы, представители самой свободной профессии, оказались в трясине, где независимость подменена административным контролем, а дух профессиональной свободы — конформизмом».
Для России этот опыт должен стать не примером, а предупреждением. У нас, как и в Армении, реформа подаётся под лозунгом качества и этики. Но, напротив, реформа ведёт к: политическому и дисциплинарному подчинению адвокатов, разрушению конкурентной среды, росту стоимости услуг и ограничению доступа к правосудию, формированию корпоративной элиты, зависимой от власти.
Этот опыт представляет прямое предостережение для России, где схожие процессы могут развиваться быстрее и в ещё более централизованной форме.
Источник: эксклюзивно для Объединения юристов
