разбор
Про адвокатскую монополию
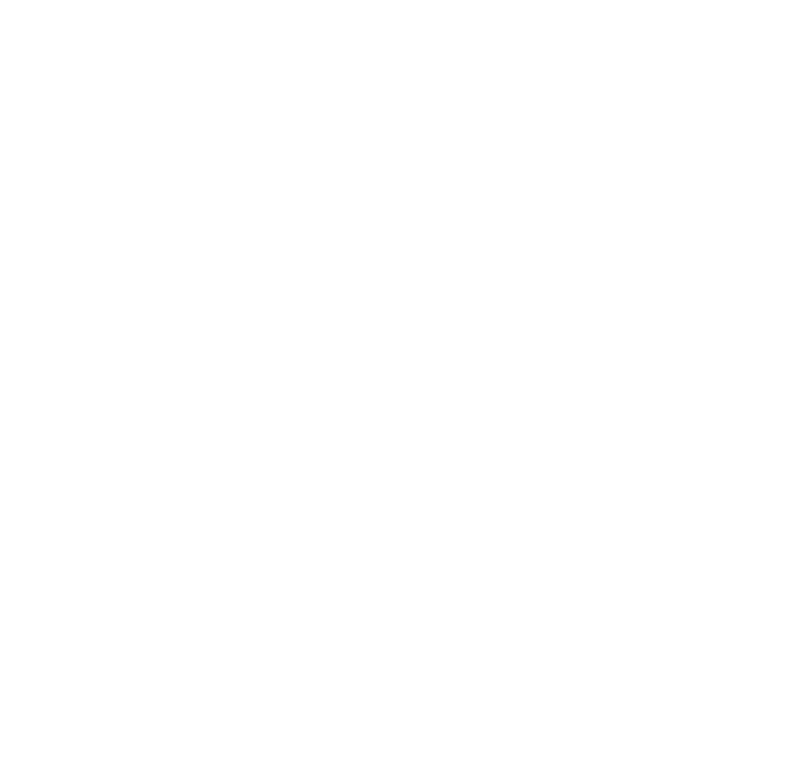
Александр Козлов
Юрист ООО "Финансово-правовой альянс",
г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург
Минюст 11 июля опубликовал на федеральном портале проектов нормативных актов проект федерального закона, который предлагает внести изменения в следующие законы:
- Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;
- Процессуальные кодексы: АПК, ГПК, КАС
Очевидным плюсом данного законопроекта является то, что стандарты и этические нормы, обязательные для адвокатов, будут распространены и на юристов, не имеющих статуса адвоката. В настоящее время такие юристы при принятии профессиональных решений руководствуются, как правило, лишь нормами гражданского и уголовного законодательства, а также субъективным представлением о морали и справедливости. В этой связи объективизация подобных представлений действительно представляется достоинством законопроекта.
Однако к недостаткам законопроекта можно отнести усиливающуюся роль Министерства юстиции в регулировании адвокатской деятельности. Адвокатура — это институт гражданского общества, выступающий в качестве независимого гаранта защиты прав граждан. Вмешательство государства в деятельность такого образования должно быть если не исключено полностью, то как минимум сведено к минимуму. В противном случае провозглашаемая независимость адвокатуры рискует остаться лишь формальностью.
Говоря об увеличении роли Минюста, хочется задать серьезный вопрос: ведь правосудие — это не только бытовые споры, верно? Существуют громкие, резонансные дела, в которых не последнюю роль играет независимость адвоката. Именно в таких делах проверяется зрелость правовой системы и демонстрируется эффективность институтов гражданского общества. Если в рамках этих дел не будет обеспечена реальная независимость, то адвокатура может перестать играть ту важную роль, которую от нее ожидает общество.
Увеличится ли стоимость юридических услуг с введением монополии? Возможно.
Распространенная точка зрения заключается в том, что любая монополия снижает экономическую эффективность и в итоге приводит к удорожанию услуг. Однако существует и альтернативный подход: в некоторых случаях монополия способствует снижению издержек за счет эффекта масштаба, а высокая прибыль в монополизированной сфере может, напротив, стимулировать приток новых участников и способствовать формированию конкуренции. Вот почему однозначного ответа на данный момент нет.
Но оправдана ли такая реформа с экономической точки зрения? С точки зрения критерия Калдора-Хикса изменение считается эффективным, если выигрыши победителей настолько велики, что способны полностью компенсировать потери проигравших. Иными словами, введение “адвокатской монополии” будет предпочтительным только в случае, если оно приведет к более оптимизированному распределению ресурсов на рынке юридических услуг в целом. Таким образом, оценка зависит не от самого факта монополизации, а от ее способности реально улучшить общую экономическую эффективность на рынке юридических услуг. Если по итогам реформы юристы «отвалятся» на этапе экзаменов или не выдержат конкуренции с иными адвокатами в последующем и будут вынуждены оставить профессию (если конечно не переквалифицируются в инхаусы), то с осторожностью можно сказать, что такая реформа будет экономически эффективна.
Глобально, разумеется, законопроект в целом направлен на улучшение положения на рынке юридических услуг для потребителя. Обыватель, столкнувшийся с некачественным оказанием услуг, получит больше возможностей для защиты своих прав, но, как кажется, не восстановления, если мы рассматриваем дисциплинарное производство в отношении адвоката. Риск лишения адвокатского статуса в теории должен дисциплинировать юристов и стимулировать их оказывать услуги на более высоком уровне, но не возникнет ли риск появления номинальных адвокатов, как номинальных директоров, номинальных арбитражных управляющих, чьи фамилии будут на вывесках, но проводить консультации и готовить позиции по делу будут юристы без статуса, а номинальный адвокат будет ходить в процесс по заранее подготовленной позиции написанной на бумаге?
Обобщая, могу сказать, что в отношении “адвокатской монополии” мне ближе позиция Р.С. Бевзенко, который перед внедрением монополии предлагает задаться вопросом: «для чего нам нужна монополия?» и ответ на который зависит от типа процесса: социальный или профессиональный. Если мы хотим профессиональный процесс, то монополия нужна, но если мы остаемся в социальном типе процесса, то и монополия не нужна, поскольку в действующих редакциях процессуальных кодексов суть участия сторон в процессе сводится, по сути, к предоставлению доказательств для их оценки судом, на основании чего суд и выносит решение, потому что «суд знает право».
Если мы будем вводить монополию, то и правила ведения процесса нужно менять, где должна выигрывать та сторона, которая сумела доказать свою правоту. Тогда может быть проблема, что у стороны, позволившей себе нанять более дорогих и квалифицированных адвокатов из списка “Ъ” или "Право-300", будет приоритет перед тем, кто в силу своих финансовых возможностей не сможет позволить дорогих адвокатов.
Если Минюст ставит цель — дисциплинировать судебных представителей и сократить количество злоупотреблений в процессе, почему бы не рассмотреть аккредитацию как один из вариантов?
Как показало исследование, проведенное юридический фирмой INTELLECT, европейские страны, напротив, отказываются от адвокатской монополии, видя ее некую несправедливость в отношении слабозащищенных слоев населения и, возможно, неэффективность, потому что суд – это место, где должно вершиться правосудие.
Возможно, государство в лице Минюста стремится с помощью адвокатуры компенсировать проблемы юридического образования, где существует низкий порог вхождения в профессию и огромная куча «заборостроительных» институтов, торгующих дипломами, где, получив “корочку” юриста, гражданин уже может начать практиковать и влиять на судьбы людей. Возможно, одним из регуляторов будет механизм, ограничивающий количество платных мест в вузах.
Резюмирую: введение “адвокатской монополии” может вызвать еще больше проблем и кажется это попытка «потушить пожар стаканом воды».
Позиция, изложенная в тексте, является выражением личного взгляда автора.
Однако к недостаткам законопроекта можно отнести усиливающуюся роль Министерства юстиции в регулировании адвокатской деятельности. Адвокатура — это институт гражданского общества, выступающий в качестве независимого гаранта защиты прав граждан. Вмешательство государства в деятельность такого образования должно быть если не исключено полностью, то как минимум сведено к минимуму. В противном случае провозглашаемая независимость адвокатуры рискует остаться лишь формальностью.
Говоря об увеличении роли Минюста, хочется задать серьезный вопрос: ведь правосудие — это не только бытовые споры, верно? Существуют громкие, резонансные дела, в которых не последнюю роль играет независимость адвоката. Именно в таких делах проверяется зрелость правовой системы и демонстрируется эффективность институтов гражданского общества. Если в рамках этих дел не будет обеспечена реальная независимость, то адвокатура может перестать играть ту важную роль, которую от нее ожидает общество.
Увеличится ли стоимость юридических услуг с введением монополии? Возможно.
Распространенная точка зрения заключается в том, что любая монополия снижает экономическую эффективность и в итоге приводит к удорожанию услуг. Однако существует и альтернативный подход: в некоторых случаях монополия способствует снижению издержек за счет эффекта масштаба, а высокая прибыль в монополизированной сфере может, напротив, стимулировать приток новых участников и способствовать формированию конкуренции. Вот почему однозначного ответа на данный момент нет.
Но оправдана ли такая реформа с экономической точки зрения? С точки зрения критерия Калдора-Хикса изменение считается эффективным, если выигрыши победителей настолько велики, что способны полностью компенсировать потери проигравших. Иными словами, введение “адвокатской монополии” будет предпочтительным только в случае, если оно приведет к более оптимизированному распределению ресурсов на рынке юридических услуг в целом. Таким образом, оценка зависит не от самого факта монополизации, а от ее способности реально улучшить общую экономическую эффективность на рынке юридических услуг. Если по итогам реформы юристы «отвалятся» на этапе экзаменов или не выдержат конкуренции с иными адвокатами в последующем и будут вынуждены оставить профессию (если конечно не переквалифицируются в инхаусы), то с осторожностью можно сказать, что такая реформа будет экономически эффективна.
Глобально, разумеется, законопроект в целом направлен на улучшение положения на рынке юридических услуг для потребителя. Обыватель, столкнувшийся с некачественным оказанием услуг, получит больше возможностей для защиты своих прав, но, как кажется, не восстановления, если мы рассматриваем дисциплинарное производство в отношении адвоката. Риск лишения адвокатского статуса в теории должен дисциплинировать юристов и стимулировать их оказывать услуги на более высоком уровне, но не возникнет ли риск появления номинальных адвокатов, как номинальных директоров, номинальных арбитражных управляющих, чьи фамилии будут на вывесках, но проводить консультации и готовить позиции по делу будут юристы без статуса, а номинальный адвокат будет ходить в процесс по заранее подготовленной позиции написанной на бумаге?
Обобщая, могу сказать, что в отношении “адвокатской монополии” мне ближе позиция Р.С. Бевзенко, который перед внедрением монополии предлагает задаться вопросом: «для чего нам нужна монополия?» и ответ на который зависит от типа процесса: социальный или профессиональный. Если мы хотим профессиональный процесс, то монополия нужна, но если мы остаемся в социальном типе процесса, то и монополия не нужна, поскольку в действующих редакциях процессуальных кодексов суть участия сторон в процессе сводится, по сути, к предоставлению доказательств для их оценки судом, на основании чего суд и выносит решение, потому что «суд знает право».
Если мы будем вводить монополию, то и правила ведения процесса нужно менять, где должна выигрывать та сторона, которая сумела доказать свою правоту. Тогда может быть проблема, что у стороны, позволившей себе нанять более дорогих и квалифицированных адвокатов из списка “Ъ” или "Право-300", будет приоритет перед тем, кто в силу своих финансовых возможностей не сможет позволить дорогих адвокатов.
Если Минюст ставит цель — дисциплинировать судебных представителей и сократить количество злоупотреблений в процессе, почему бы не рассмотреть аккредитацию как один из вариантов?
Как показало исследование, проведенное юридический фирмой INTELLECT, европейские страны, напротив, отказываются от адвокатской монополии, видя ее некую несправедливость в отношении слабозащищенных слоев населения и, возможно, неэффективность, потому что суд – это место, где должно вершиться правосудие.
Возможно, государство в лице Минюста стремится с помощью адвокатуры компенсировать проблемы юридического образования, где существует низкий порог вхождения в профессию и огромная куча «заборостроительных» институтов, торгующих дипломами, где, получив “корочку” юриста, гражданин уже может начать практиковать и влиять на судьбы людей. Возможно, одним из регуляторов будет механизм, ограничивающий количество платных мест в вузах.
Резюмирую: введение “адвокатской монополии” может вызвать еще больше проблем и кажется это попытка «потушить пожар стаканом воды».
Позиция, изложенная в тексте, является выражением личного взгляда автора.
Источник: публикация на Закон.ру
